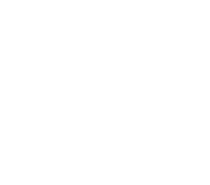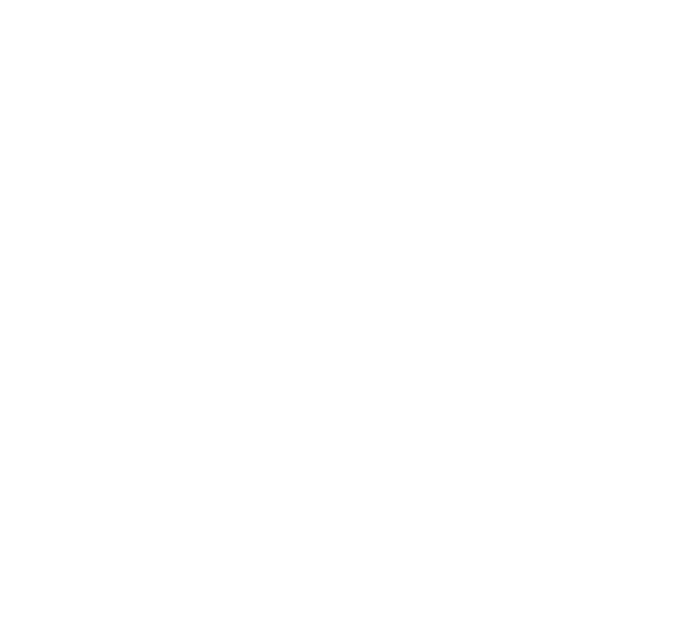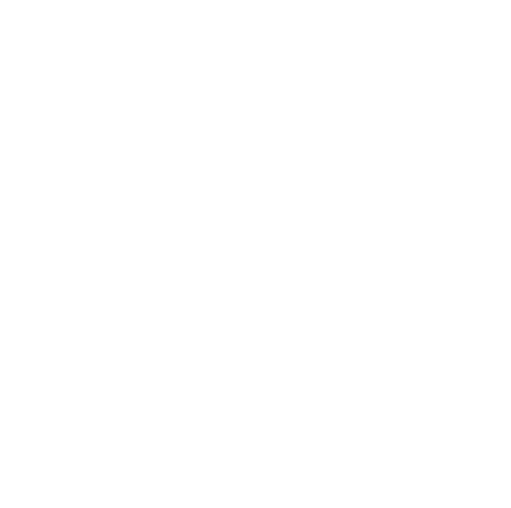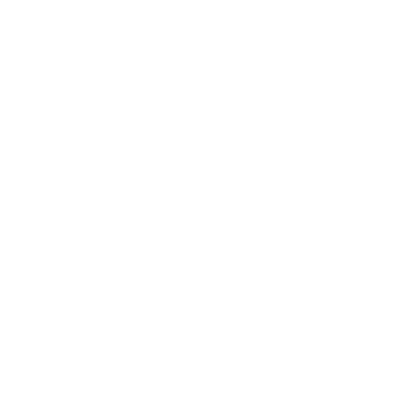Лаборатория эскиза
13 и 14 сентября в ТЮЗе имени Ю.П. Киселёва прошли показы спектаклей, подготовленных в рамках творческой лаборатории «Четвёртая высота».
О том, как это было, читай в обзоре «СГУщёнки».
Звучит третий звонок, зал погружается во тьму, зрители нетерпеливо ждут начала театрального действа. Так выглядит стандартный сценарий похода на спектакль. Но что получится, если поменять формат показов, встряхнуть его и повернуть другим ракурсом? Возможно, именно таким вопросом задался театральный критик Олег Лоевский, когда двенадцать лет назад решился воплотить в жизнь собственный экспериментальный проект. Получилась творческая лаборатория «Четвёртая высота», которая уже десять лет радует саратовцев и дарит им возможность знакомиться с новыми именами и постановками.
Формат лаборатории предполагает подготовку спектаклей в очень короткий срок. На суд зрителей выносится «эскиз» – своеобразный черновик. Это набросок, действующие герои которого могут читать текст с листа и импровизировать. Лаборатория задумывалась как работа над современными текстами, но со временем её «репертуар» наполнился и классическими произведениями. Тема «Четвёртой высоты-2016» – «Связь времён». Три молодых режиссёра – Владимир Смирнов, Георгий Цнобиладзе, Кирилл Вытоптов – представили эскизы по произведениям И.С. Тургенева, А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского.
Формат лаборатории предполагает подготовку спектаклей в очень короткий срок. На суд зрителей выносится «эскиз» – своеобразный черновик. Это набросок, действующие герои которого могут читать текст с листа и импровизировать. Лаборатория задумывалась как работа над современными текстами, но со временем её «репертуар» наполнился и классическими произведениями. Тема «Четвёртой высоты-2016» – «Связь времён». Три молодых режиссёра – Владимир Смирнов, Георгий Цнобиладзе, Кирилл Вытоптов – представили эскизы по произведениям И.С. Тургенева, А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского.
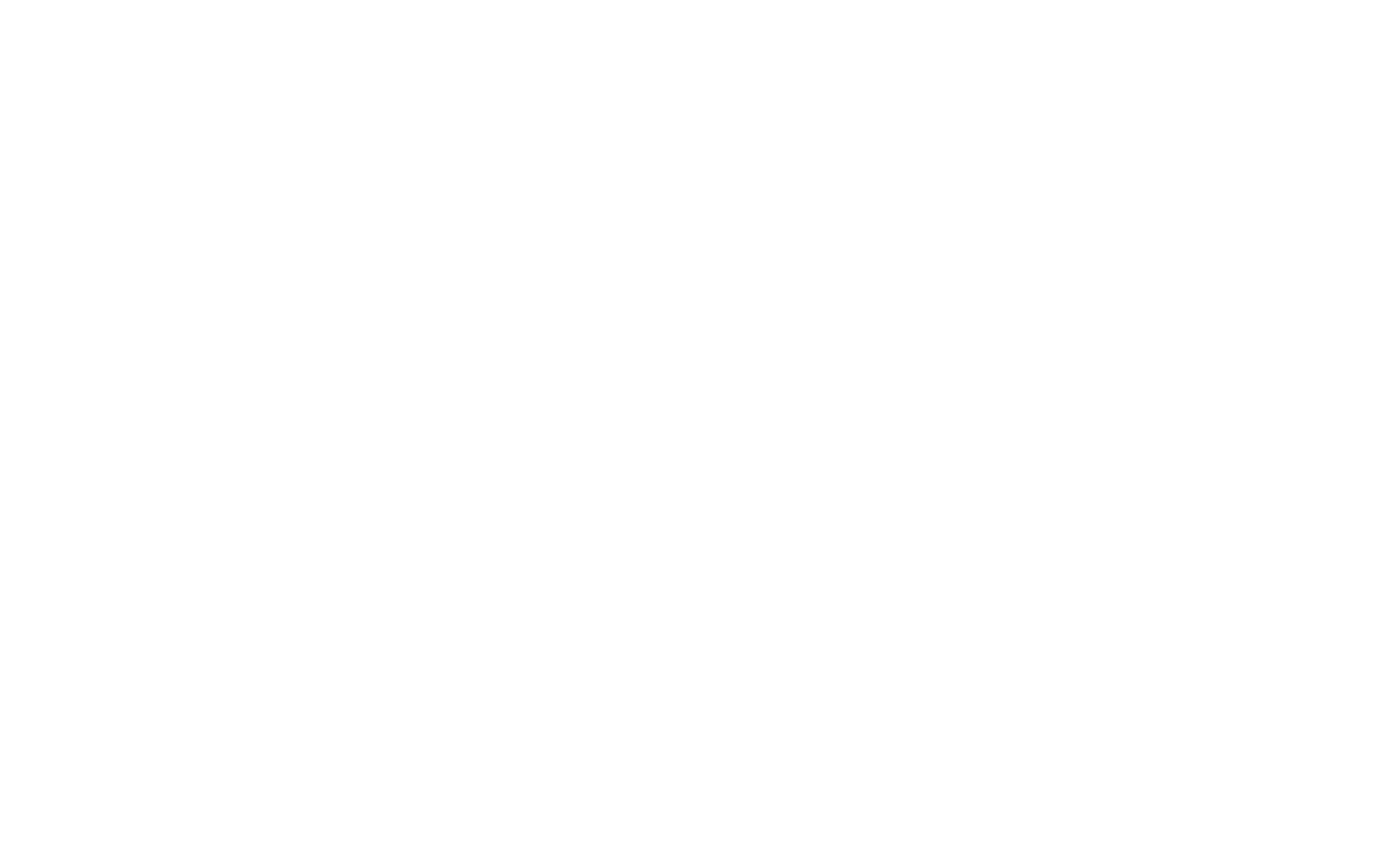
«
Саратов – один из первых городов, который начал проводить лаборатории. Уже второй раз в рамках этого проекта здесь ставятся спектакли не по современным текстам, а по классическим. В 2011 году мы готовили Шекспировский фестиваль, сейчас открылась лаборатория русской классики. Для тех, кто не знает: обычно спектакль готовится несколько месяцев, иногда полгода. А эскизы, поставленные в рамках «Четвёртой высоты», репетируются всего пять дней. Поэтому неважно, читают ли актёры с листа или они успели выучить текст. Это не «выставка достижений народного хозяйства», а внутренний профессиональный тренинг. В театре все новшества, идеи «идут» через зрителя, проверяются именно на нём. Поэтому сегодня в нашем зале не только профессиональные критики и актёры. Поработать придётся всем, и зрителям в том числе. Каждый показ заканчивается обсуждением и голосованием. Можно определить участь спектакля: есть три варианта «Оставить в репертуаре», «Было интересно, но только как эскиз», «Забыть, как кошмарный сон».
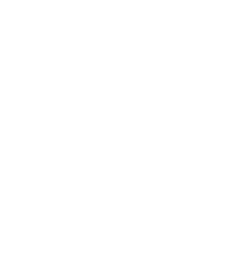
Олег Лоевский
Автор и идеолог проекта, директор Всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского ТЮЗа, драматург, театральный критик
«Дворянское гнездо»
Режиссёр Владимир Смирнов
Выпускник Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Работает актёром в кино и на телевидении, а также играет в спектаклях «Театра Романа Виктюка», «Центра драматургии и режиссуры», «Театра.Doc».
Работы в театре в качестве режиссёра:
– 2011: «Скапен» по Ж.-Б. Мольеру (ГИТИС-РАТИ). Спектакль признан лучшей режиссёрской работой фестиваля «Студенческая весна–2011» и получил Гран-при и Приз зрительских симпатий на XXXII Международном фестивале ВГИК.
– 2014: «Безотцовщина» по А.П. Чехову (театр «Сфера»). Спектакль вошёл в лонг-лист фестиваля «Золотая маска», участвовал в международном театральном фестивале «Мелиховская весна–2015» и «TBILISI INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE».
– 2015: «Фиолетовые облака» по А. Четверговой («Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского»). Спектакль участвовал в IX Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays».
Работы в театре в качестве режиссёра:
– 2011: «Скапен» по Ж.-Б. Мольеру (ГИТИС-РАТИ). Спектакль признан лучшей режиссёрской работой фестиваля «Студенческая весна–2011» и получил Гран-при и Приз зрительских симпатий на XXXII Международном фестивале ВГИК.
– 2014: «Безотцовщина» по А.П. Чехову (театр «Сфера»). Спектакль вошёл в лонг-лист фестиваля «Золотая маска», участвовал в международном театральном фестивале «Мелиховская весна–2015» и «TBILISI INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE».
– 2015: «Фиолетовые облака» по А. Четверговой («Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского»). Спектакль участвовал в IX Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays».
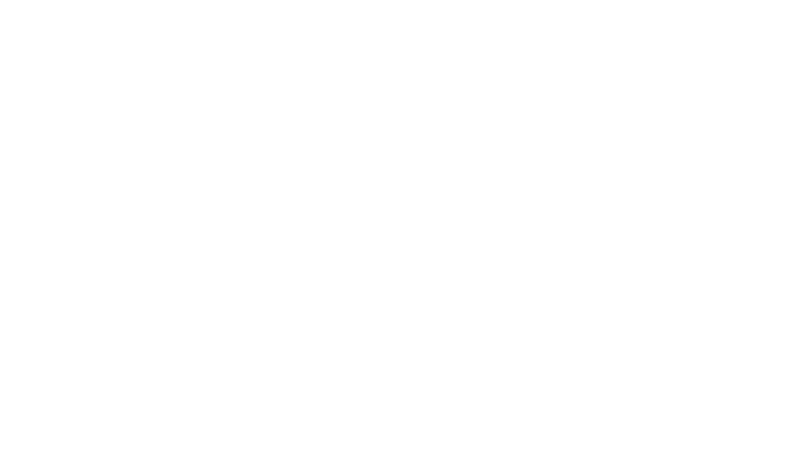
Малая сцена саратовского ТЮЗа на один час превратилась в усадьбу XIX века. История тургеневского «Дворянского гнезда» уложилась в один сценический час, в течение которого актёры показали главные сюжетные линии классического романа.
На традиционных театральных показах зритель «голосует» за спектакль аплодисментами. Их громкость и продолжительность выражают условный успех. Далее общение зрителей перетекает в кулуарные обсуждения и посты в Интернете. «Четвёртая высота» принципиально изменила механизм представления. Зритель становится участником постановочного процесса, его мнение желают выслушать актёры и режиссёры, он имеет право голоса.
Одним из принципов творческой лаборатории является возможность каждого желающего высказаться, задать вопрос, поделиться размышлениями. Все показы спектакля сопровождались обсуждениями. Зрители «Дворянского гнезда» говорили о нецелостности представленной истории: «Я не понимаю, какую историю мне рассказали, как классику связали с современностью», «Почему по жанру получился водевиль?», «В чём смысл перехода повествования от третьего лица к первому?». Зачастую «критика из зала» была намного жёстче высказываний профессионалов. Эксперты оценивали постановки всесторонне, называли их сильные и слабые стороны, давали советы по усовершенствованию работ.
На традиционных театральных показах зритель «голосует» за спектакль аплодисментами. Их громкость и продолжительность выражают условный успех. Далее общение зрителей перетекает в кулуарные обсуждения и посты в Интернете. «Четвёртая высота» принципиально изменила механизм представления. Зритель становится участником постановочного процесса, его мнение желают выслушать актёры и режиссёры, он имеет право голоса.
Одним из принципов творческой лаборатории является возможность каждого желающего высказаться, задать вопрос, поделиться размышлениями. Все показы спектакля сопровождались обсуждениями. Зрители «Дворянского гнезда» говорили о нецелостности представленной истории: «Я не понимаю, какую историю мне рассказали, как классику связали с современностью», «Почему по жанру получился водевиль?», «В чём смысл перехода повествования от третьего лица к первому?». Зачастую «критика из зала» была намного жёстче высказываний профессионалов. Эксперты оценивали постановки всесторонне, называли их сильные и слабые стороны, давали советы по усовершенствованию работ.
«
Не нужно искать в этой постановке концепцию, думать над тем, как режиссёр прочитал классика. В ней есть масса остроумных находок, и в какой-то момент эта игра с абсурдом приобретает полукитчевый характер. Сопряжение сцены, когда Лаврецкий сообщает о смерти жены, и ситуации, когда она вдруг появляется живая, говорит, что спектакль начинает балансировать на грани китча. Конечно, сегодняшний показ – экспериментальная история. Причём нужно понимать, что эксперимент не всегда связан с чем-то современным. Это не значит, что все герои должны говорить в микрофон или переодеваться в джинсы. Спектакль может быть сделан средствами традиционного театра, но неожиданно повёрнутыми к зрителю.
Показ мог бы состояться, если бы игра была немного объёмнее. К сожалению, сцены были даны слишком скупо, выступление не переросло в какой-то собственный мир. Зрители в зале задаются вопросом, рассказал ли нам режиссёр историю Тургенева? Конечно, нет. Для того, чтобы постановка «заиграла» нужно больше материала, сценического текста. Но сам подход обновления штампов, импровизации на тему классики очень интересен.
Показ мог бы состояться, если бы игра была немного объёмнее. К сожалению, сцены были даны слишком скупо, выступление не переросло в какой-то собственный мир. Зрители в зале задаются вопросом, рассказал ли нам режиссёр историю Тургенева? Конечно, нет. Для того, чтобы постановка «заиграла» нужно больше материала, сценического текста. Но сам подход обновления штампов, импровизации на тему классики очень интересен.
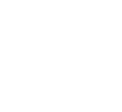
Андрей Пронин
Историк культуры, театральный критик, соучредитель Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв»
«
Зрители говорят о том, что не увидели внятной истории. Но никаких отношений между героями не прописано – от этого и режиссёрский лаконизм. Когда есть чувство, то изобразить его возможно. Но как показать то, что ещё не родилось? Иначе получается, как в современных телесериалах: «Костя знал, что Даша влюблена в него, но, чтобы удостовериться, он пришёл и постучал к ней в дверь». То есть нам всё расскажут или можно самим подумать? Мне кажется, что постановка очень современна. Она в очередной раз показывает, что человеческие отношения – хрупкая вещь. Жена Лаврецкого, изменившая ему, возвращается в его жизнь и рушит то, что только зарождается – чувства Фёдора Ивановича и Елизаветы. Я не говорю об идеальности этого показа, но он хорош как повод для размышления.
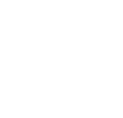
Олег Лоевский
Автор и идеолог проекта, директор Всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского ТЮЗа, драматург, театральный критик
«
Рассказ резко, агрессивно, нагло переводится в первое лицо. Конечно, традиционный советский театр только так и делал. Он других способов практически не знал. Брал прозу, где речь велась в основном от третьего лица, за исключением диалогов, и переводил в первое лицо, делая вид, что это никакая не проза, а вроде как пьеса. Пётр Фоменко, учитель учителя сегодняшнего режиссёра, предложил настаивать на том, что проза в театре есть проза. В показанном спектакле мы не найдём никакого романа, нарратива, описаний, пересказа содержания. Убран и богатый музыкальный пласт (в самом произведении очень высокий уровень музыкальных аллюзий). Режиссёр оставил только постоянно повторяющийся романсик.
Вслед за коллегами могу сказать, что в авторском ходе, возможно, есть потенциал. Мне кажется, что Владимир Смирнов передал задуманную идею – редуцировать произведение до смешного самопародирующего выступления, убрать банальное ожидание глубины, флёра, «атмосфэр». Но вместе с тем было потеряно нужное. В этом и есть цена вопроса: что получилось от глобального сокращения?
Вслед за коллегами могу сказать, что в авторском ходе, возможно, есть потенциал. Мне кажется, что Владимир Смирнов передал задуманную идею – редуцировать произведение до смешного самопародирующего выступления, убрать банальное ожидание глубины, флёра, «атмосфэр». Но вместе с тем было потеряно нужное. В этом и есть цена вопроса: что получилось от глобального сокращения?
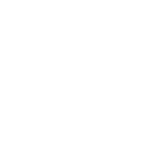
Алёна Карась
Театральный критик, обозреватель «Российской газеты», преподаватель кафедры истории театра России РАТИ (ГИТИС), член жюри премии и фестиваля «Золотая маска»
«Пиковая дама»
Режиссёр Георгий Цнобиладзе
В 2002 году окончил экономический факультет СПбГУ, в 2007 – актёрско-режиссёрский курс Льва Додина в Санкт-Петербургской театральной академии (ныне РГИСИ). Играл в спектаклях у своего мастера в МДТ-Театре Европы. С 2010 по 2013 годы работал преподавателем актёрского мастерства и сценической речи в театре-студии СПбГУ. В Санкт-Петербурге был режиссёром-резидентом Лаборатории ON.Театр (спектакли «Череп из Коннемары» М. МакДонаха, «В открытом море» С. Мрожека, «Война молдован за картонную коробку» А. Родионова). Выпустил три постановки в «Чехов-центре» Южно-Сахалинска – «Лисистрата» по Аристофану, «Про Ивана Дурака» и «Снегурушка» Михаила Бартенева, спектакль «Голый король» по Е. Шварцу в Бурятском драматическом театре, Улан-Удэ. В театре «Мастеровые» в Набережных Челнах поставил спектакли «Золушка» и «Маугли» (в 2014–2015 гг. занимал должность главного режиссёра театра).
Много лет сотрудничает с театром «Святая крепость» в Выборге: поставил там три спектакля. Постоянный участник творческих лабораторий «Театра Наций» (в том числе в Вольске в 2015 году). По итогам лабораторий осуществил целый ряд постановок в театрах малых городов России: «Метод Гренхольма» в театре «Бенефис», «Золушка» в Ачинском драматическом театре, «Белоснежка» в Прокопьевском театре драмы, «Оркестр титаник» в «Тильзит-театре». Помимо этого, Георгий Цнобиладзе ежегодно принимает участие во многих режиссёрских лабораториях по всей России: в Калининграде, Омске, Аюакане, Свияжске, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Севастополе, Тольятти, Кургане, Новороссийске и других городах. Участник фестиваля «Le vie dei festival–2011» в Италии, участник информанса «Good doctor» (Нейл Саймон) в США.
Много лет сотрудничает с театром «Святая крепость» в Выборге: поставил там три спектакля. Постоянный участник творческих лабораторий «Театра Наций» (в том числе в Вольске в 2015 году). По итогам лабораторий осуществил целый ряд постановок в театрах малых городов России: «Метод Гренхольма» в театре «Бенефис», «Золушка» в Ачинском драматическом театре, «Белоснежка» в Прокопьевском театре драмы, «Оркестр титаник» в «Тильзит-театре». Помимо этого, Георгий Цнобиладзе ежегодно принимает участие во многих режиссёрских лабораториях по всей России: в Калининграде, Омске, Аюакане, Свияжске, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Севастополе, Тольятти, Кургане, Новороссийске и других городах. Участник фестиваля «Le vie dei festival–2011» в Италии, участник информанса «Good doctor» (Нейл Саймон) в США.
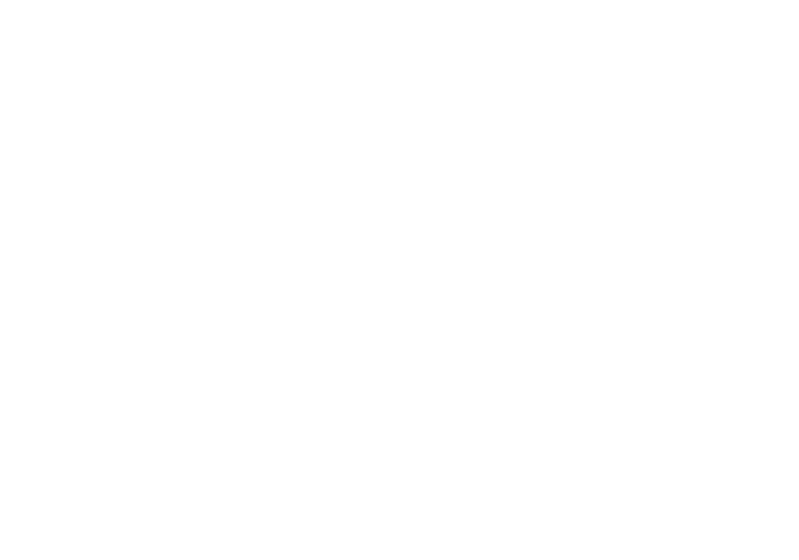
Синий холодный свет, огоньки свечей, зеркала, составленный на игровом столе карточный домик. Атмосфера таинственности заставляет зрителя затаить дыхание и всматриваться в кулисную глубину. Настроение меняется каждую минуту, от сцены к сцене. Вот бледный Германн просит графиню открыть ему три заветные карты. Вот уже похороны старухи, которая плавно опускается внутрь сцены и затягивает с собой всю обстановку комнаты. И вот сошедший с ума герой, закрывающий руками лицо и смеющийся своему проигрышу.
«Пиковая дама» вызвала много различных зрительских откликов, но было в них и нечто схожее: все без исключения говорили о непередаваемой атмосфере, так называемой «бытовой мистике», элементы которой есть во многих произведениях пушкинского времени. Большое внимание «критики из зала» уделили главному герою постановки и его характеру. «Вы хотели показать заурядного героя?», «Почему графиню опускают вниз?», – спрашивали режиссёра из зала. «Получилась немефистофельская барыня и молодой человек-фрик», «История потеряла объём», «Больше похоже на "Преступление и наказание"», – замечали зрители.
«Пиковая дама» вызвала много различных зрительских откликов, но было в них и нечто схожее: все без исключения говорили о непередаваемой атмосфере, так называемой «бытовой мистике», элементы которой есть во многих произведениях пушкинского времени. Большое внимание «критики из зала» уделили главному герою постановки и его характеру. «Вы хотели показать заурядного героя?», «Почему графиню опускают вниз?», – спрашивали режиссёра из зала. «Получилась немефистофельская барыня и молодой человек-фрик», «История потеряла объём», «Больше похоже на "Преступление и наказание"», – замечали зрители.
«
Я почувствовал атмосферу петербургского морока, этой холодной зимы, когда темнеет в два часа. Многие постановки «Пиковой дамы» похожи друг на друга, это достаточно «заставленное» произведение. Берётся эпиграф «А в ненастные дни собирались они…», из него делается песенка, все это динамично разыгрывается. В сегодняшнем спектакле темпоритм морочный, вязкий. Этот романс «Однозвучно гремит колокольчик», который поётся и на сцене, и за ней и никак не может разродиться полным мотивом, наводит на мысль о каком-то психическом расстройстве, о субъективном зрении не совсем здорового человека. В данном эскизе эта тема не доведена, но она дана. Карточный домик, который расставляет Германн, авторский текст, читаемый им же, Лиза, графиня – возникает зрительское впечатление, что здесь нам показывают некую болезненную реальность, которую конструирует герой. Лиза тоже выступает с авторским текстом и представляет свою искривлённую психическую реальность. Было бы интересно, если бы режиссёр довёл эти субъективные правды, точки зрения героев до финала.
Многое можно похвалить в этом эскизе. Он очень красиво сделан: работа с техническими средствами и поворотными кругами, рулетка, некий образ неустойчивости, движение Германна по тёмному дому графини – всё это предаёт картине полноту. Я смотрел сцены и вспоминал произведения Одоевского, они точно «попадают» в страшилки той эпохи. Отлично сыграна роль графини. Она очень плотская, властная, совсем не больная, не сумасшедшая, не трясёт головой. Редко так играют. Уехавшая вниз старуха остаётся для меня самым сильным впечатлением. По-моему, это очень хорошо придумано.
Многое можно похвалить в этом эскизе. Он очень красиво сделан: работа с техническими средствами и поворотными кругами, рулетка, некий образ неустойчивости, движение Германна по тёмному дому графини – всё это предаёт картине полноту. Я смотрел сцены и вспоминал произведения Одоевского, они точно «попадают» в страшилки той эпохи. Отлично сыграна роль графини. Она очень плотская, властная, совсем не больная, не сумасшедшая, не трясёт головой. Редко так играют. Уехавшая вниз старуха остаётся для меня самым сильным впечатлением. По-моему, это очень хорошо придумано.
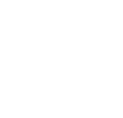
Андрей Пронин
Историк культуры, театральный критик, соучредитель Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв»
«
Атмосфера – самое сильное, что есть в этой зарисовке. Достоинство спектакля – умение режиссёра действовать лаконично и образно. Когда за дверью возникает свеча, конечно, мы видим и порыв ветра, и ранние кромешные сумерки, пространство, открывающееся в огромный петербургский миф. Спектакль начинается рассказом Томского – впечатляюще, ярко и порывисто, а заканчивается длинным и очень спокойным циничным подсчётом Чекалинского. В оперном спектакле Анатолия Васильева образ старухи рифмовался с екатерининским веком, она представала двойником Екатерины. Подобный образ мы видим и здесь. Это очень логично, многие литераторы, учёные, художники видят связь пушкинской графини и императрицы.
У меня есть вопрос, связанный с общим прочтением и манерой игры актёров. Лизе режиссёр даёт в руки книгу, она читает «Пиковую даму»: то есть то, что происходит с ней в данную минуту или вот-вот произойдёт. Каково отношение героини к читаемому тексту? Нерешённость того, как этот текст может звучать, создаёт дистанцию по отношению к нему, а это главная проблема, когда мы работаем с прозой. В пьесе актёр говорит так, как написано для его персонажа. А здесь он вынужденно пользуется другими частями текста, описательными. Мы делаем вид, что проза и есть пьеса. Это старомодно.
У меня есть вопрос, связанный с общим прочтением и манерой игры актёров. Лизе режиссёр даёт в руки книгу, она читает «Пиковую даму»: то есть то, что происходит с ней в данную минуту или вот-вот произойдёт. Каково отношение героини к читаемому тексту? Нерешённость того, как этот текст может звучать, создаёт дистанцию по отношению к нему, а это главная проблема, когда мы работаем с прозой. В пьесе актёр говорит так, как написано для его персонажа. А здесь он вынужденно пользуется другими частями текста, описательными. Мы делаем вид, что проза и есть пьеса. Это старомодно.
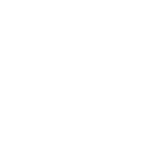
Алёна Карась
Театральный критик, обозреватель «Российской газеты», преподаватель кафедры истории театра России РАТИ (ГИТИС), член жюри премии и фестиваля «Золотая маска»
«Белые ночи»
Режиссёр Кирилл Вытоптов
В 2006 году окончил культорологический факультет Челябинской государственной академии культуры и искусств, в 2011 – РАТИ-ГИТИС (режиссёрский факультет). Прошёл стажировку для артистов и режиссёров мюзикла (США, Массачусеттс. Jackob's Pillow, август 2010). С 2011 года – штатный режиссёр Московского театра «Современник», поставил там спектакли по Дж. Бокаччо «Декамерон», Э. Лу «Курт звереет», А.П. Чехову «Серёжа», В. Бенигсену «ГенАцид. Деревенский анекдот». Постановки в других театрах: О. Богаев «Dawn Way» (театр драмы им. Горького, Краснодар); Ю. Клавдиев «Развалины» (Центр драматургии и режиссуры, Москва); А.Н. Островский «Лес» (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург); И. Вилквист «Ночь Гельвера» (Новошахтинский драматический театр); С. Беккет «В ожидании Годо» (Театр-клуб «Мастерская», Москва); Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети» (Мастерская П. Фоменко); О. Раева «Сны Минотавра» (фрагмент оперы, либретто В. Сорокина, Театр Наций, Москва).
Помимо постановки режиссёрских работ в театрах России, выступает в качестве актёра в Liquid Theatre (Москва-Челябинск), спектаклях «Камень» Театра Наций и «Четыре квартета» на проекте «Платформа» в Москве, а также является педагогом по актёрскому мастерству в ГИТИСе. Участник лабораторий в Южно-Сахалинске, Рыбинске, Новошахтинске, Самаре, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Участник проектов «Девяностые» молодых режиссёров и композиторов в Центре имени Мейерхольда и «Чайка. Часть III» продюсерской группы Vottebe в Электротеатре Станиславский.
Помимо постановки режиссёрских работ в театрах России, выступает в качестве актёра в Liquid Theatre (Москва-Челябинск), спектаклях «Камень» Театра Наций и «Четыре квартета» на проекте «Платформа» в Москве, а также является педагогом по актёрскому мастерству в ГИТИСе. Участник лабораторий в Южно-Сахалинске, Рыбинске, Новошахтинске, Самаре, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Участник проектов «Девяностые» молодых режиссёров и композиторов в Центре имени Мейерхольда и «Чайка. Часть III» продюсерской группы Vottebe в Электротеатре Станиславский.
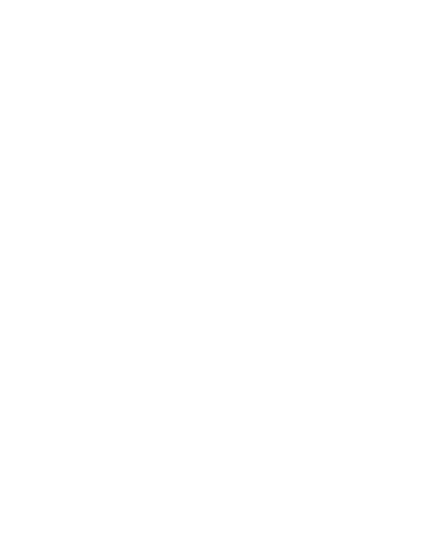
В лабораторной версии «Белые ночи» Достоевского стали «Чёрно-белыми». По воле режиссёра в центре истории любовного треугольника – кино. Действие произведения перенесено в цифровую эпоху. Диалоги героев дополняются визуальным рядом и обретают новые смыслы. Зачастую общение между героями происходит посредством кинематографа: Мечтатель озвучивает действие на экране, обращаясь к Настеньке. Синтез театра и кино, сопряжение двух миров заставляет по-новому взглянуть на классическое произведение.
«Возможность прочитать Достоевского современными приёмами», «разговор на сегодняшнем языке» – так охарактеризовали спектакль «Чёрно-белые ночи» зрители. Однако от персонажей Достоевского многих отвлекали видеонарезки из фильмов. Одни говорили о потере смысла, который в произведение вкладывал автор, другие – о невозможности считать образы и их недостоверности. У профессиональных критиков сложилось своё мнение о работе по Достоевскому.
«Возможность прочитать Достоевского современными приёмами», «разговор на сегодняшнем языке» – так охарактеризовали спектакль «Чёрно-белые ночи» зрители. Однако от персонажей Достоевского многих отвлекали видеонарезки из фильмов. Одни говорили о потере смысла, который в произведение вкладывал автор, другие – о невозможности считать образы и их недостоверности. У профессиональных критиков сложилось своё мнение о работе по Достоевскому.
«
Мне кажется, в этом спектакле режиссёр в известной мере пошутил. Все знают, что существует и роман, и фильм с названием «Мечтатели». Героев любовного треугольника объединяет пристрастие к кино. Конечно, это не что-то новое: всё просвещённое человечество давно знает об этой прекрасной болезни. И заразить ею героев Достоевского – хорошая идея. Но мне иногда хотелось, чтобы они перестали разыгрывать на сцене какие-то страсти, а просто сели бы и стали смешно, лирически или эмоционально дублировать хорошие фильмы словами Достоевского, Бунина, Тютчева. Было ощущение, что сама фабула классического произведения к этому аттракциону озвучки никак не приращивается. В такой форме отношений артистов действительно иногда пересиливало кино. Радикальный, интересный, новаторский приём не породил уникального эскиза в целом.
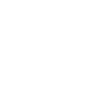
Андрей Пронин
Историк культуры, театральный критик, соучредитель Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв»
«
Мне было приятно пребывать на сегодняшнем спектакле, благодаря ему я погрузилась в собственные мысли. Может, иногда такое существование в театре и возможно. Создать ощущение транса – задача сновидческого театра, театра Но. Приём с внедрением видеовставок оказался интереснее, чем его разрешение. Озвучивание нарезки Мечтателем – это самое волшебное, что есть в спектакле. Как было бы хорошо, если бы герои сели и слились бы с этими тенями экрана, произнося текст Достоевского. Когда же начиналась актуализация, и актёры общались между собой, зритель должен был заставить себя поверить в историю Мечтателя и Настеньки, и это разрушало волшебную магию.
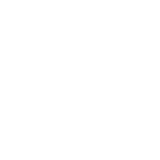
Алёна Карась
Театральный критик, обозреватель «Российской газеты», преподаватель кафедры истории театра России РАТИ (ГИТИС), член жюри премии и фестиваля «Золотая маска»
От первого лица
Как работается в условиях лаборатории? Конечно, это стресс и напряжение. Ты никогда не угадаешь, что получится в эскизе, а что нет. Но это будит твоё актёрское нутро и природу. По поводу «Дворянского гнезда» могу сказать, что лично для меня в работе с режиссёром творческий процесс был интереснее, чем результат. В течение четырёх дней мы фантазировали и сочиняли по полной программе! В наших выдумках мой герой из-за несчастной любви даже падал со второго этажа, ломал себе все конечности, выезжал в конце на инвалидном кресле и пел свой чудный романс... Но в последний день перед показом режиссёр решил всё поменять, и многое, замечу – очень многое, что мы репетировали, просто не вошло в показ, и зрители это не увидели...
И такое бывает.
И такое бывает.
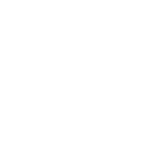
Евгений Сафонов
Актёр Саратовского академического театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселёва, исполнитель роли Владимира Паншина в спектакле «Дворянское гнездо»
им. Ю.П. Киселёва, исполнитель роли Владимира Паншина в спектакле «Дворянское гнездо»
«
Формат лаборатории мне очень нравится! Всегда интересно попробовать что-то новое, «Четвёртая высота» – это именно такой случай. За четыре дня ты настолько аккумулируешь силы и погружаешься в процесс создания спектакля, что становишься сорежиссёром. Режиссёру лаборатория интересна тем, что он получает возможность отточить своё мастерство, попробовать новые ходы, где-то рискнуть. А если будет удачный показ, то, возможно, театр захочет продолжить с ним работу. То же самое и с актёрами. С Георгием Цнобеладзе работать одно удовольствие: он даёт актёру свободу, не стремится только за результатом, а импровизирует. Мы, артисты, всегда были готовы предложить свои идеи, а он – принять ту или иную задумку. Очень хочется продолжить работу и взяться за «Пиковую даму» основательно.
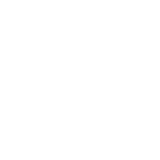
Артём Яксанов
Актёр Саратовского академического театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселёва, исполнитель роли Германна в спектакле «Пиковая дама»
им. Ю.П. Киселёва, исполнитель роли Германна в спектакле «Пиковая дама»
«
Лаборатория – это территория абсолютного неизвестного, и если выпадает счастливый билет участвовать в таком проекте, то есть шанс уйти с головой в эту неизвестность и посмотреть на театр совершенно другими глазами. Ограниченность во времени рождает приятную необходимость просто верить всему, что происходит. Без вопросов, без сомнений. Такое чистое пространство работы «здесь и сейчас». Параллельно готовится несколько эскизов, поэтому появляется радость от ощущения, что существуешь в гораздо большем творческом пространстве, чем только твоя работа. Чувство неодиночества во Вселенной. Появляется возможность увидеть эскизы очень разного театра, ещё неотшлифованного, из-за чего у меня рождается гораздо больший эмоциональный и творческий отклик. Как для зрителя лаборатории, мне очень важен момент обсуждения эскиза, и участие в нём профессиональных театральных критиков.
Теперь о работе над «Чёрно-белыми ночами». Выход из живого лабораторного пространства в повседневную театральную действительность у меня бывал разный: болезненный, тоскливый, печальный, полный безразличия. А эта лаборатория была, как по Достоевскому, «целой минутой блаженства», которая теперь, кажется, будет делать невероятную вещь – греть меня тихонько изнутри и примирять с несовершенствами и театра, и жизни. Любому актёру и зрителю я бы пожелала побывать на территории режиссёрской работы Кирилла Вытоптова.
Теперь о работе над «Чёрно-белыми ночами». Выход из живого лабораторного пространства в повседневную театральную действительность у меня бывал разный: болезненный, тоскливый, печальный, полный безразличия. А эта лаборатория была, как по Достоевскому, «целой минутой блаженства», которая теперь, кажется, будет делать невероятную вещь – греть меня тихонько изнутри и примирять с несовершенствами и театра, и жизни. Любому актёру и зрителю я бы пожелала побывать на территории режиссёрской работы Кирилла Вытоптова.
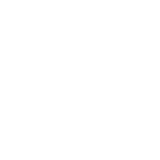
Анастасия Бескровная
Актриса Саратовского академического театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселёва, исполнительница роли Настеньки в спектакле «Чёрно-белые ночи»
им. Ю.П. Киселёва, исполнительница роли Настеньки в спектакле «Чёрно-белые ночи»
Зрительские впечатления
Прежде в творческой лаборатории «Четвёртая высота» я никогда не участвовала, но на зарисовках с дальнейшим обсуждением театрального эскиза была, и не только в России. Меня вдохновляет такой формат. Ты своими глазами видишь, как создаётся театральная постановка. Это делает сцену и закулисье чуть ближе, помогает лучше разобраться в театре, ведь обсуждают спектакль не только зрители, но и профессионалы. Единственный минус – голосование. Не знаю, как кто-то может поставить отрицательную оценку целой команде, это невозможно!
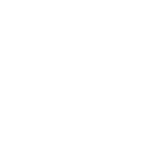
Анна Антонова
Аспирант социологического факультета СГУ, корреспондент телеканала «Саратов-24»
«
На «Четвёртую высоту» я стараюсь ходить регулярно. Формат мероприятия мне кажется интересным и весьма полезным для абсолютно любого человека.
Актёра и зрителя, наверное, могут привлечь две вещи: возможность посмотреть эскиз до премьеры (если он вырастет в спектакль) и услышать мнение профессионалов. К сожалению, это понимают далеко не все, и после окончания спектакля многие уходят не потому, что им нужно куда-то спешить, а из-за того, что обсуждение им неинтересно. А зря, оно помогает и открывает на многое глаза.
В этом году я посмотрел два спектакля из трёх («Пиковую даму» и «Чёрно-белые ночи») и оба хотел бы увидеть в репертуаре – они хороши. Да, в некоторых местах неровны, но было бы странно ожидать от эскиза точечной проработки. Режиссёры нестандартно подошли к классическому материалу, особенно в «Чёрно-белых ночах». Это радует, потому что видеть традиционную постановку в рамках такого проекта мне бы не хотелось, даже если бы она была добротной. Как верно заметил Олег Лоевский, лаборатория есть лаборатория, здесь приветствуются эксперименты. А классике всегда будет необходим свежий взгляд.
Актёра и зрителя, наверное, могут привлечь две вещи: возможность посмотреть эскиз до премьеры (если он вырастет в спектакль) и услышать мнение профессионалов. К сожалению, это понимают далеко не все, и после окончания спектакля многие уходят не потому, что им нужно куда-то спешить, а из-за того, что обсуждение им неинтересно. А зря, оно помогает и открывает на многое глаза.
В этом году я посмотрел два спектакля из трёх («Пиковую даму» и «Чёрно-белые ночи») и оба хотел бы увидеть в репертуаре – они хороши. Да, в некоторых местах неровны, но было бы странно ожидать от эскиза точечной проработки. Режиссёры нестандартно подошли к классическому материалу, особенно в «Чёрно-белых ночах». Это радует, потому что видеть традиционную постановку в рамках такого проекта мне бы не хотелось, даже если бы она была добротной. Как верно заметил Олег Лоевский, лаборатория есть лаборатория, здесь приветствуются эксперименты. А классике всегда будет необходим свежий взгляд.
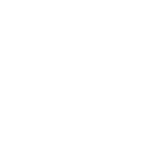
Андрей Сергеев
Культурный обозреватель «Газеты недели в Саратове»
«
Я люблю приходить на показы творческой лаборатории: в эскизах режиссёры позволяют себе то, что не всегда удаётся воплотить в репертуаром спектакле. Лаборатория – поле для эксперимента, здесь всегда много хулиганств, театральных аттракционов, свежих приёмов. Это подкупает зрителя. В этом году меня удивил выбор репертуара: литература XIX века. Хрестоматийный классический текст для саратовского зрителя представляет собой сакральную ценность. Хорошо, что режиссёры нашли в себе смелость подойти к каноническим произведениям свободно от стереотипов. Особенно это удалось, на мой взгляд, в показе по «Белым ночам» Достоевского.
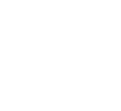
Мария Соловьёва
Журналист порталов knowrealty.ru и smogmag.ru, блогер, автор постановок Саратовского академического театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселёва («В новом доме Новый год», «Как найти дорогу к солнцу», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Ёлка. Travel», «Елка. Travel. Новые приключения»)
им. Ю.П. Киселёва («В новом доме Новый год», «Как найти дорогу к солнцу», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Ёлка. Travel», «Елка. Travel. Новые приключения»)
«
Раньше бывал точно на читках, но их формат близок к лаборатории: такое же малое количество дней на постановку, приезжие режиссёры-постановщики. Нравится ли формат? Определённо да. Я вообще люблю всю эту суматоху и неопределённость перед показом (конечно, если я в нём не участвую).
Не все зрители, даже те, кто «со стажем», полностью понимают, что происходит на сцене с актёрской и режиссёрской точки зрения. Да, видят ляпы или забытый текст, но такие важные мелочи как сиюминутный импровиз или ловкий ход, они не всегда заметят сходу. Существует огромная когорта вещей, которые не видны обычному зрителю. То, что большинство не видит в зале, а это порой просто один сюжет, мне как раз и интересно. Лично я прихожу в восторг от того, когда актёр встаёт немного «над» ролью. В репертуаре ТЮЗа я бы хотел видеть хороший спектакль моего любимого режиссёра МакДонаха, кого же ещё!
Не все зрители, даже те, кто «со стажем», полностью понимают, что происходит на сцене с актёрской и режиссёрской точки зрения. Да, видят ляпы или забытый текст, но такие важные мелочи как сиюминутный импровиз или ловкий ход, они не всегда заметят сходу. Существует огромная когорта вещей, которые не видны обычному зрителю. То, что большинство не видит в зале, а это порой просто один сюжет, мне как раз и интересно. Лично я прихожу в восторг от того, когда актёр встаёт немного «над» ролью. В репертуаре ТЮЗа я бы хотел видеть хороший спектакль моего любимого режиссёра МакДонаха, кого же ещё!
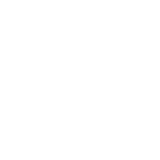
Сергей Ванин
зритель, студент Саратовского театрального института
Итоги в цифрах
В голосовании за спектакль «Пиковая дама» приняли участие 68 человек. Их голоса распределились следующим образом:
продолжать работу с включением в репертуар – 53 голоса (78%),
было интересно, но только как эскиз – 11 голосов (16%),
забыть, как кошмарный сон – 4 голоса (6%).
58 человек участвовали в голосовании за эскиз «Белые ночи»:
продолжать работу с включением в репертуар – 38 голосов (65,5%),
было интересно, но только как эскиз – 9 голосов (15,5%),
забыть, как кошмарный сон – 11 голосов (19%).
Спектакль-победитель пока неизвестен. Последнее слово в выборе постановки, которую включат в репертуар ТЮЗа, скажут члены жюри.
продолжать работу с включением в репертуар – 53 голоса (78%),
было интересно, но только как эскиз – 11 голосов (16%),
забыть, как кошмарный сон – 4 голоса (6%).
58 человек участвовали в голосовании за эскиз «Белые ночи»:
продолжать работу с включением в репертуар – 38 голосов (65,5%),
было интересно, но только как эскиз – 9 голосов (15,5%),
забыть, как кошмарный сон – 11 голосов (19%).
Спектакль-победитель пока неизвестен. Последнее слово в выборе постановки, которую включат в репертуар ТЮЗа, скажут члены жюри.
Текст, фото, оформление Александры Дьяковой